
Затем дома обмазывались глиной, сверху делался потолок из расколотых вдоль стволов берез, на которые насыпался слой земли. А уж потом стлали крыши из метрового слоя соломы или камыша. Начинали с мазанок К сожалению, такие мазанки плохо держали тепло в суровые амурские зимы. Там было холодно и сыро, и поэтому из-за лихорадки, тифа и туберкулеза умирало много детей и стариков. Пришлось украинцам через несколько лет все же начать строительство настоящих рубленых домов с русскими печами и лежанками, с полатями, а также с пристроенным крылечком. Дома зажиточных крестьян обшивались тесом. Они имели терраски с двумя выходами - на улицу и во двор. На окнах наличники и ставни, а весь дом украшался затейливой резьбой. «Вглядываясь ближе в их быт, - писал журнал «Восточное поморье» 15 июня 1866 года, - вы видите везде хороших хозяев, хорошие стайки для скота, сложенные из талового плетня, прочность земледельческих орудий убеждает нас в этом. Действительно, крестьянин кладет свою силу и время на пашню, сенокос и уход за скотом, справедливо считая это главным своим обеспечением и потому довольствуясь только самым малым, необходимым для своего помещения». Дома ставили на века Перезимовав, на следующую зиму крестьянин начинал готовить в тайге лес для будущей капитальной стройки. Лес, заготовленный в верховьях реки, сплавлялся плотами, вытаскивался на берег и аккуратно складывался вдоль улицы для просушки. Только на следующее лето после посевной начиналась стройка. После крестьянин все свободное время употреблял на изготовление изгородей, всяких клетушек, разных хозяйственных построек, а уж потом принимался за украшение избы резными коньками, оконцами и крылечками. Путешественник Г. Е. Грумм-Гржимайло, побывав в селениях на Томи, писал в 1895 году в книге «Описание Амурской области»: «....выстроены они (избы) из соснового леса, и там, где есть малороссийское население (украинцы), смазаны глиной, крыты тесом и дранью, а иногда соломою. Строевой лес рубится на своих наделах и лесных дачах... Камень и кирпич в постройках не употребляются». Рубили крестьяне избы основательно, на века. Вот как строил избы для своих сыновей крестьянин из Павловки Остапенко. Летом он с сыновьями, выкупив лесной билет, уезжал вверх по Томи, там тщательно выбирал, рубил лес и связывал его в плоты. Плоты пригоняли по большой воде в село, загоняли их в протоку и специально топили. Все лето и зиму бревна лежали под водой. На следующее лето бревна вытаскивались лошадьми на крутой берег и раскладывались для сушки. Здесь они лежали все лето. Поздней осенью, закончив все полевые работы, Остапенко с сыновьями начинал рубить дом. Мореное дерево, хорошо просушенное, трудно поддавалось топору и пиле. Но дело шло, и к весне сруб был готов. Снова проходило лето, и только следующей осенью работа по дому продолжалась. Теперь стелились из колотых бревен полы. Плахи тесались фуганками и соединялись между собою специальными деревянными шпурами. Затем принимались за устройство русской печи. За неимением хорошего камня печь «сбивали» из глины. К ней пристраивали сбоку лежанку и делали полати на высоте человеческого роста между печью и стеной дома. Вставлялись окна и двери, окна с наличниками, деревянными кружевами и ставнями. Перед входом на усадьбу возле калитки устраивалась скамейка. Все. Дом был готов. Удивительно, что такие дома не поражает грибок. Он не гниет. И может простоять свыше ста лет. И никакого постельного белья Русская печь с подом, загнеткой, шестком, лежанкой и полатями занимала четвертую часть дома. На полатях спали ночью ребятишки, старики, а днем складывали ненужную «лопоть» (платье). Во многих домах спали не на полатях, а на широких лавках вдоль стен или на соломенных тюфяках прямо на полу. Вдоль печи со стороны входной двери тянулась скамейка - «ленивка», на ней отдыхали днем и с нее же лазили на печь и полати. Постельного белья не стелили - берегли. В «кути» к стене была приделана широкая полка, или «голбец», для кухонной посуды. В некоторых избах здесь же прибивался к стене небольшой шкафчик, в котором хранилось все нужное хозяйке для стряпни. Кухонная утварь находилась рядом с печью: ухват, чепальник, клюка, деревянная лопата, помело (голик) и длинные щипцы для вытаскивания из печи угольков. Посуда была в основном из местных материалов: дерева, глины, бересты. Почетное место отводилось в избе иконам. Их помещали в переднем (красном) от входа углу. Помещали на божнице. Здесь же горела лампада. Г. Е. Грумм-Гржимайло, описывая быт переселенцев в Приамурье, вспоминает, что переселенцы быстро освоились на новых местах жительства. И у некоторых из них «во многих избах мы найдем нередко и швейную машину, и венские стулья, и висячую керосиновую лампу и т. д. Но все эти предметы, столь чуждые крестьянину Европейской России, еще более оттеняют окружающую грязь и неряшливость, потому что они появились не как следствие истинной потребности, а как результат дешевизны». Швейная машина «Зингер» стояла почти в каждой крестьянской избе. Стоила она 6 рублей, да и те крестьянин мог сразу не платить. Достаточно ему было высказать свое согласие агенту фирмы, который объезжал все крестьянские дома, и заплатить вступительный взнос (задаток) в 2 рубля, как машинка почти немедленно доставлялась на дом. Крестьянину оставалось только заплатить остальные 4 рубля за полгода - и машинка ваша. Поперек батьки Традиционным в быту крестьян из-за неимения отапливаемых хлевов для скотины было содержание его в жилых домах - телят, поросят, а под печью - кур. Питались крестьяне за длинным столом, по бокам которого стояли лавки. Во главе сидел глава семьи. Он имел право наделять всех кусками хлеба и первым отведать кушанья. Кто в нетерпении лез в горшок впереди отца, тот тут же получал увесистый удар ложкой в лоб. Ели молча, не разговаривая. Хозяйка и дочки ели после мужиков. Основу питания крестьян составляли картофель, крупы разные, хлеб и пироги, рыба и мясо, солонина. В пищу шло все, что выращивалось на огороде. Часто варили гречневую и овсяную каши, заправляя их конопляным маслом. Ели молочные, овсяные, гороховые, ягодные кисели, рыбную уху, жареную рыбу, картошку отварную. Летом делали мурцовку - похлебку из тертой редьки, окрошку с квасом, луком, тюрю - похлебку из кваса с хлебом... Пили чай, заваренный травами, сушеной морковью, смородиновым и малиновым листом и т. д. Только на праздники пили китайский напиток - чай, а в бедных семьях - напиток, приготовленный с использованием насушенных гнилушек березы, дуба и чаги, так называемую шульту. Мода на церкви Едва построив избы, крестьяне главной заботой своей считали строительство сельской церкви. Дело дошло до того, что преосвященный Иннокентий даже стал останавливать крестьян в их усердии, советуя им не спешить со строительством храмов, а заняться своими жилищами. Но настойчивые крестьяне просили архипастыря разрешить им строительство церквей, которые вскоре появились в Александровском, Васильевке, Павловке, Комиссаровке и других селах. Строили как за общий счет, так и с помощью Благовещенской епархии. Например, крестьяне с. Калягинского обратились с прошением в Благовещенскую епархию о разрешении строительства церкви и просили для этого добавить денег. Деньги были выделены. Церковь была построена. Село в честь подвига крестьянина Комиссарова в Петербурге, отбившего пистолет у террориста в сторону, во время первого покушения на жизнь императора Александра II, было переименовано в Комиссаровку. Но церкви строили не везде: не все были истинно православными. Староверы в строительстве церквей участия не принимали, считая, что в Бога можно верить без посредников и икон. Валентин Голубев, заведующий отделом истории краеведческого музея Белогорска.









 Ведра вина, велосипеды и мозоли: какой была газетная реклама в Приамурье 100 лет назад
Ведра вина, велосипеды и мозоли: какой была газетная реклама в Приамурье 100 лет назад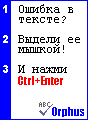
Добавить комментарий
Комментарии