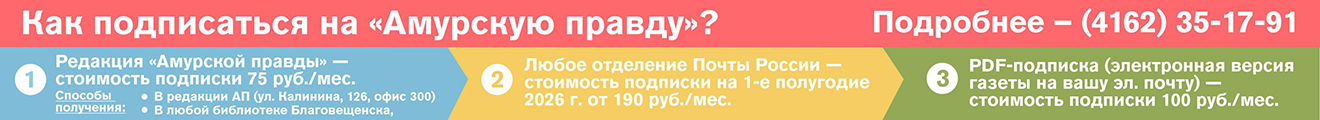5 вопросов Марине Колодиной
Охрана водно-болотных угодий и избежание экологической катастрофы - об этом говорили участники Рамсарской конференции, завершившейся в Южной Корее. В конференции принимали участие 120 стран, в том числе Россия. Муравьевский парк устойчивого природопользования на этой встрече представляла его директор Марина Колодина.
«АП» задает ей сегодня традиционные 5 вопросов. 1. Рамсарская конвенция и Приамурье - какое отношение они имеют друг к другу? - Рамсарская конференция по водно-болотным угодьям проходит раз в три года. Это конференция договаривающихся сторон, сейчас туда входит 158 стран. В нашей стране так называемых рамсарских территорий - 35, есть они и в Приамурье, в частности, это Зейско-буреинская равнина площадью в 31 тыс. 600 га, а также Хингано-архаринская низменность. Чем хороша Рамсарская конвенция - в ее рамках природоохранные организации договариваются о совместных мероприятиях. Это важно, потому что пролетные маршруты птиц пролегают по разным странам и даже континентам. 2. Почему столько внимания уделяется обычным болотам? В понимании обывателя болото - это нечто грязное и чавкающее, оно затягивает. неслучайно мы образно говорим о непрестижном месте, где неинтересно, - это болото. Но представители 158 стран считают иначе? - Болото - это колыбель всего живого. От состояния болот зависит вся пищевая цепь и качество воды. По сравнению с 1900 годом количество населения выросло в 2 раза, а потребление воды - в 6 раз. Треть населения планеты испытывает дефицит водных ресурсов. На Рамсарской конференции были представители всех континентов. И все говорили о деградации болот, связанной с разными причинами. Но многие специалисты считают, что первопричина - глобальные изменения климата. В ряде стран идет наступление на болота со стороны экономики - территории осваиваются в ущерб живой природе. Но и там, где нет освоения, вода из болот уходит, наступает засуха. Это видно и по территории нашего Муравьевского парка. Нет болот - журавлям негде кормиться. Деградация болот - это деградация жизни на планете. 3. Что важного было решено на этой конференции? - Рамсарская конференция решала ряд принципиальных вопросов по сохранению важных болотных комплексов. Рассматривались также и более конкретные вопросы, например по сохранению восточно-азиатского пролетного маршрута. Конференция проходила в Южной Корее на фоне достаточно сложной ситуации с освоением приливно-отливных зон в этой стране. Корея - важная часть миграционного маршрута журавлей. Приливно-отливные зоны у них крупнейшие, но они могут исчезнуть под мощным натиском индустрии. Но в этой стране сильно гражданское общество, и под давлением 120 стран, которые участвовали в конференции, президент Южной Кореи пообещал приостановить ряд проектов. Второй важный момент - на 10-й Рамсарской конференции впервые был услышан голос общественных неправительственных организаций, которые работают на местах. 4. Что дает Муравьевскому парку и лично вам участие в Рамсарской конференции? - Это возможность общения и обмена опытом. Я работаю в Муравьевке, мои друзья - в Корее, Японии, Коста-Рике, в Индонезии, но у всех одни и те же проблемы: мы видим, что птиц с каждым годом меньше, что денег у нас нет, правительства безразличны. Везде так. Но другое дело, что Индонезия имеет выходы на различные фонды и выигрывает гранты, а мы этого не имеем, потому что о многом не знаем. В самом крупном зоопарке Южной Кореи - Сеульском великом зоопарке - интересовались, есть ли у нас опыт выпуска журавлей, содержащихся в неволе, в дикую природу. Он у нас не просто есть - в Хинганском заповеднике работает станция реинтродукции, где выводят птенцов, а потом выпускают на волю. Международные организации готовы за такой опыт даже заплатить. Но Хинганский заповедник об этом не знает, они бьются за свое существование, как и мы. У нас же суровые будни: я вернулась из Кореи - выяснилось, что у нас обогреватели сломались, нужно покупать, а завтра мы будем пенопласт заказывать, и так далее. Очень много хлопот, и не всегда руки доходят до главного. 5. Что вызывает наибольший интерес у природоохранных организаций других стран, когда вы рассказываете о Муравьевском парке? - Как ни странно, это не наши образовательные программы и не то, что мы часть нашего бюджета зарабатываем самостоятельно (хотя это вызывает большое удивление - мы живем на гранты и пожертвования, но при этом еще умудряемся зарабатывать). Самый большой интерес в программе парка вызывает экологически чистое сельское хозяйство. Проблемы с качеством воды и пищевых продуктов стоят очень остро, и когда мы говорим, что в России нет рынка экологически чистой продукции, это вызывает недоумение. Но этот интерес - в парке самое слабое звено. У нас не хватает техники, не хватает кадров. Образованием, природоохраной и в других странах занимаются, а одновременно с этим еще и сельским хозяйством - нет. А у нас природоохранная территория занимается сельским хозяйством ради птиц. Другой вопрос, что этот опыт никем не изучен и не обобщен.