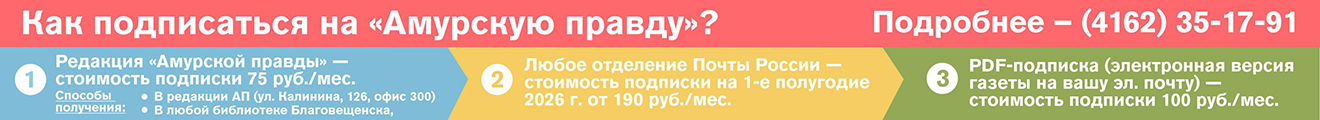Ретрит на вечной мерзлоте: в Норском заповеднике запустят туры с погружением в дикую природу
Норский — это дикость и первозданность, это «перезвони дня через три», так как связи нет, это ни фена, ни сенсорной плиты — а только ветер в волосах после бани и костер на берегу реки. Здесь даже самые гламурные красотки и современные хозяйки превращаются в походниц и обходятся без электричества. В Норский заповедник едут семьями и компаниями друзей, чтобы перезагрузиться в тишине природы, фотографы делают там эксклюзивные снимки — ведь только в одном месте планеты истинно сухопутное животное, сибирская косуля, по своей воле переплывает реку, когда уходит на зиму в малоснежные южные края. А недавно сотрудники Норского заповедника получили запрос от любителей ретрит-туров и уже думают, как проводить медитации в тайге — ведь здесь все условия, чтобы очистить мысли и понять, чего хочешь именно ты.




Норское приключение начинается: как встретили гостей интеллигенты из тайги
— Позвольте, я за вами поухаживаю, — добродушный мужчина в вязаной шапке-ушанке взваливает тяжеленный рюкзак на плечи и аккуратно переносит его в лодку. Так встречает гостей научный сотрудник Норского заповедника с одной из самых рискованных специализаций, чье имя называть не рекомендуется — он очень суеверный. За пять минут две лодки наполняются рюкзаками и спальными мешками, коробками с продуктами и баками с бензином. Сотрудники и гости заповедника, которые держат путь на кордон «Мальцевский», рассаживаются по местам. В группе — представители Агентства гостеприимства Амурской области и компаний-туроператоров. Эта поездка была организована для того, чтобы люди, которые рассказывают потенциальным туристам о заповеднике, делились личными эмоциями, а не справочными данными.
Гости надевают спасательные жилеты. Лодки, к которым приладили моторы, шумно трогаются, отпугивая любопытных ворон. Плыть полтора часа против ветра. В октябре в Селемджинском районе по утрам уже минусовая температура. Пассажиров, которых клонило в сон с долгой дороги, осенняя река начала бодрить ледяными брызгами. Научный сотрудник заботливо укрыл их от воды брезентом — так еще и теплее стало.
Лодка-омороча несется по изгибам Норы легко. Хоть некоторым гостям заповедника и кажется, что она вот-вот полностью погрузится в темную реку — от бортика до воды сантиметров пять. Владелец традиционного для этих мест транспорта успокаивает: все доберутся в целости и сохранности. Оморочи могут брать до двух тонн груза, старожилы перевозили на них стога сена, строительный материал — всё что угодно и на дальние расстояния. Раньше на берегах заповедной реки стояли эвенкийские поселения. Одно из таких — Мальцев Луг, в честь которого и назвали кордон «Мальцевский», куда несла людей легкая лодка. Не зря и название самой реки Нора происходит от эвенкийского «неру», которое переводится как «хариус».
Хариуса во время маленького путешествия путники, конечно, не встретили. Но любовались орланом, который парил над тайгой, удивлялись тому, как выглядит «гнездо» медведя.
— Молодые бурые мишки, которым еще не исполнился год, когда угощаются черемухой на верхушке дерева, обглоданные ветки складывают под себя, — рассказала ведущий специалист по развитию туризма Норского заповедника Мария Силохина. — Получается конструкция, похожая на гнездо. Иногда от птичьего и не отличишь!
Природоохранная территория начинается там, где Нора сливается с Селемджой, спустя минут 20. В этом месте возвышается Усть-Норская сопка, которую одновременно украшают ели, сосны, пихты и лиственницы. Дальше по берегам растет белая и даурская береза, даже гигантская корейская, которую называют чозенией. Еще тут ивы, ольха, орешник, заросли красного шиповника и лимонника. В заповеднике сибирская растительность смешивается с маньчжурской — и это очень красиво, рассматривать можно часами.
Но вот спустя полтора часа справа можно заметить домики в березовой чаще — это и есть кордон «Мальцевский». Когда группа причалила к берегу, первым делом мужчины разожгли костер.
— Вы грейте руки, я вам сейчас кофе с молоком сделаю, — гостеприимно предложил научный сотрудник, доставая из лодки свой походный, обгоревший до черноты чайник.
Матерый таежник неизменно обращается на «вы», в разговорах не проскальзывает ни одного крепкого словца, всегда любезен и улыбается. Пишет научные работы на основе десятилетних исследований и хождений по тайге, но рассказывает про опасные походы исключительно для расширения кругозора гостей — и не более. Любому журналисту хочется взять интервью у такого эксперта, сохранить его контакт и подписаться в соцсетях — мониторить. Только вот мастодонт не ведет их, даже телефон у него кнопочный — чтобы не жалко было заменить на новый аппарат, если старый, самое простое, зальет дождем.
— Ох, девчонки, вам бы в теплые городские квартирки! Здесь дикость, первобытность! — восклицает мужчина. — Но, наверное, поэтому сюда и тянет людей: хотя бы 2–3 дня пожить так, как жили когда-то предки. Это у нас всех в крови.
Не вмешивайся: первое правило заповедника
 Фото: Анна Шантыка
Фото: Анна Шантыка
Всего в Норском заповеднике трудятся 7 научных сотрудников и 17 государственных инспекторов, которые изучают уникальную флору и фауну и охраняют ее. Запрещено только одно – хоть как-то вмешиваться в течение жизни.
Цель: исследовать, по каким законам живет сама природа. До определенного времени здесь даже пожары не тушили.
— В отличие от заказников, у нас запрещена реинтродукция редких видов, подкормка и вакцинация животных. Нельзя заниматься сенокошением, сбором дикоросов, лекарственных растений, спортивной охотой, рыбалкой, даже нельзя высаживать деревья — тут природа живет сама по себе, — удивляет ведущий специалист по развитию туризма Норского заповедника Мария Силохина.
В заповеднике водится 30 видов рыб, около 40 видов животных, более 180 видов птиц. В том числе черный и японский журавли, черный и дальневосточный аисты, орлан-белохвост, скопа, рыбный филин — самая крупная и самая редкая сова планеты, которая в полный рост может доставать человеку до пояса. Международный союз охраны природы даже относит рыбного филина к вымирающим видам.
Многих ученых привлекает тот факт, что в Норском заповеднике живет крупнейшая в мире популяция мигрирующей сибирской косули. Это животное обитает в разных регионах России и других странах, передвигается по суше — и только катастрофа может заставить его пуститься вплавь. Но в Норском заповеднике из года в год повторяется одна и та же картина: с сентября по октябрь каждый день десятки особей спускаются с берега в ледяную воду — и самоотверженно плывут, преодолевая течение. Эта стихия забрала бесповоротно много косуль: животные тонули. Когда было наводнение в 2019 году, река просто не давала четвероногим пловцам добраться до земли. А они все равно каждую осень двигались, будто по одним и тем же следам.
— Помню, однажды законы природы попытались смягчить люди: на пути мигрирующей косули встали члены охотобщества, они стреляли в воздух, но животные прорывались, бросались в воду, самых слабых тянуло на дно, а выбраться не давала корка льда у берега, — вспоминает государственный инспектор Норского заповедника Александр Васильев.
 Фото: Андрей Анохин / Архив «Амурской правды»
Фото: Андрей Анохин / Архив «Амурской правды»
Веками по одному пути сибирскую косулю ведет генетическая память. На зиму грациозные животные уходят в более южные края, где легче копытить пищу под снегом и кормить потомство.
К слову, десятки туристов, мечтая своими глазами увидеть уникальное природное явление и снять на память эксклюзивные кадры, приезжают в Норский заповедник именно осенью. Их не останавливает даже тот факт, что придется просыпаться до рассвета, одеваться как капуста и плыть с кордона на «счетчик» на другом берегу, где каждую особь фиксируют охотоведы, а потом часами выжидать пугливую косулю где-нибудь в зарослях. Ведь осознанный турист понимает, что заповедник — не зоопарк, животные могут появиться, а могут и нет.
— По многим копытным в Норском заповеднике наблюдается увеличение численности. Популяция той же сибирской косули по сравнению с прошлым годом выросла на 4,5 тысячи особей — до 55 тысяч. Но тут еще и сказывается тот факт, что косуля с севера пришла в доступные угодья и ее удалось качественно посчитать. Количество изюбря увеличилось на 700 особей, лося — на полторы тысячи, северного оленя — на тысячу. И это тенденция последних десяти лет, — объясняет начальник отдела управления по охране животного мира Амурской области Максим Бормотов.
Про любовь, которой расстояния на помеха
Еще одна ценность Норского заповедника — это, конечно, люди. В основном работают здесь мужчины. А женщин самих впору охранять — такие они редкие. Ведущий специалист по развитию туризма Мария Силохина приезжает в далекий Селемджинский район по 3–4 раза в месяц, чтобы провести в заповеднике экскурсию для группы туристов или генеральную уборку перед началом сезона.
 Чтобы гости были сытыми, несколько раз Маша ныряла в погреб то за овощами, то за другими продуктами. Фото: Наталья Баландина
Чтобы гости были сытыми, несколько раз Маша ныряла в погреб то за овощами, то за другими продуктами. Фото: Наталья Баландина
Единственный бренд, который признает Маша, — это бренд Норского заповедника. У нее в гардеробе вся коллекция: пока это дождевик, худи и футболка с изображением плывущих косуль. Маша не боится никакой работы. Привела в порядок домики и веранду, спустилась в погреб посреди тайги — вытащила оттуда овощи для рассольника, начистила в –2⁰C картошку на улице. После ужина всё проворно убрала со стола, а затем усадила гостей обратно — в настольные игры играть и чаевничать. Чай еще не допили, а Маша фантики уже собирает — в костер отправляет.
— Нельзя в заповеднике мусор оставлять. Всё, что горит — в костер. Органику — в речку рыбам, — поясняет Маша. — Дома у нас тоже порядок в этом плане, и раздельный сбор мусора — обязательно.
Закончили с ужином и баней — все улеглись спать в домиках. Всемером на нарах — не беда. Маша под треск печки засыпает первой. Ей вообще не привыкать к жизни в спартанских условиях. Девушка родилась в семье военных, много путешествовала с родителями по Амурской области, даже в Таджикистане жила. Когда училась в шестом классе, семья переехала в село Новопетровка Константиновского района.
 В дикую глушь с домашними соленьями — чтобы рассольник на костре был вкусным, как у мамы. Фото: Анна Шантыка
В дикую глушь с домашними соленьями — чтобы рассольник на костре был вкусным, как у мамы. Фото: Анна Шантыка
— Примером в любви к природе и своей профессии для меня стала мой прекрасный учитель биологии Ольга Алексеевна Ивашик — она очень умная, красивая, всегда хорошо выглядит и интересно говорит, дополнительно вела у нас экологический кружок. Вот с нее всё и началось, — вспоминает Маша.
После школы Маша поступила в БГПУ на естественно-географический факультет и вступила в известную и популярную тогда дружину охраны природы «БАРС», позже стала ее командиром. В Норский заповедник приехала впервые на третьем курсе университета с одногруппниками — и тогда поняла, что это любовь с первого взгляда.
— Потом я окончила университет, уехала к будущему мужу в Серышево, поработала в краеведческом музее, что, кстати, дало хорошие знания. Там я поняла, что можно по-другому работать — через искусство про любовь к природе рассказывать, — вспоминает Маша. — А потом уехала, стала мамой, начала работать в общественной организации «Амурский социально-экологический союз». Там меня и нашел директор Норского заповедника Тимофей Николаевич Мудрак. Он сам выходец дружины «БАРС», искал таких же помешанных на любви к природе.
Маша была не готова переезжать в Февральск, но решила попробовать работать дистанционно. Прошло шесть лет. Теперь она — лицо заповедника: молодая, милая, простая, очень профессиональная, рассказывает о заповеднике на телеканалах и радиостанциях, выступает на конференциях по всему Дальнему Востоку. Теперь она — пример для школьников и студентов. Как ни посмотришь ее фото — Маша в окружении детей. Даже свою дочь Настю, к слову, Мария Силохина в рабочие поездки в таежный офис возила в слинге с полутора лет: девочка спала с мамой в палатке, играла не в песочнице, а на лесной опушке. Сейчас часто в заповедник с Марией приезжает супруг — житель Февральска до знакомства с женой, кстати, в этих местах не был.
Первозданная тайга для йоги, рисования и других практик для души: чего хотят туристы?
 Маша готовит для туристов на морозе и после ужина моет посуду на свежем воздухе, зато с какими видами Фото: Анна Шантыка
Маша готовит для туристов на морозе и после ужина моет посуду на свежем воздухе, зато с какими видами Фото: Анна Шантыка
В кухне на открытом воздухе с видом на разноцветный лес и спокойную широкую речку суетились сотрудницы заповедника и представитель одной из компаний-туроператоров, приехавших в Норский за новыми впечатлениями. Александр Дроздов, правда, здесь вообще впервые. Хотя он с детства занимается туризмом, люди идут к нему за комфортными однодневными сплавами и захватывающими легендами.
— Наши сплавы проходят в пригороде Благовещенска по реке Зея — это та самая ступенька между выходными на диване и активными выходными, — рассказывает Александр. — Куда-то ехать на два дня или больше в первый раз? Точно нет: там много неизвестного, какие-то люди, палатки, комары, спальник, туалет на улице и еще много всего страшного. Но поехать на один день попробовать, посмотреть, сплавиться за несколько часов, где еще и накормят, — вот это точно да.
Конечно, на сплав по Норе ехать придется шесть часов. Но эта северная река очень красивая, считает Александр, и долгая дорога того стоит. Но только сплав не для новичков, так как есть пороги и перекаты. Скорее всего, в северное путешествие отправятся уже профессионалы, у которых есть и опыт, и оборудование.
— Для тех, у кого нет байдарок или рафтов, весёл, моторов и спасательных жилетов, сплавы по заповедной территории может устраивать туристическая компания с аттестоваными гидами-инструкторами, — комментирует Александр. — По поводу следующего сезона мы уже думаем: когда их лучше делать — в начале лета или, наоборот, осенью, когда уже нет мошки и жары.
 Курорты Селемджинского района. Сезон только начинается. А если серьезно: полежать на прохладном северном солнышке, когда нет ветра, — отдельный вид удовольствия! Фото: Анна Шантыка
Курорты Селемджинского района. Сезон только начинается. А если серьезно: полежать на прохладном северном солнышке, когда нет ветра, — отдельный вид удовольствия! Фото: Анна Шантыка
Сегодня чаще всего в заповеднике встречают группы городских туристов, которым не нужен экстремальный отдых, они устали от шума автомобилей и десятков уведомлений в день на электронную почту и во все мессенджеры. Недавно начали приезжать фотографы — на фотоохоту. Появились и необычные для этих дремучих мест запросы.
— Сейчас в России стало модным устраивать ретрит-туры — развивающие путешествия. Такие делают на базе «Шамбала Пинежье» или на хребте Тукурингра в Зейском заповеднике, — рассказывает специалист Норского заповедника по экологическому просвещению Наталья Баландина. — Когда туристы не просто приезжают в какую-то красивую локацию, созерцают и дышат, но и имеют возможность заниматься йога-практиками, рисованием, да хоть раскладывать метафорические карты с видом на таежные дали. В общем, делать что-то для души не в городе, не в фитнес-клубе или в баре, а на лоне дикой природы. И мы эти запросы сейчас прорабатываем.
Поужинали уже почти под звездами. Удивительно, но было не холодно. Длинный стол был уставлен тарелками с только что приготовленным на костре пловом, соленьями от мамы Марии Силохиной, сыром от Агрипины из села Волково, конфетами, манго и мандаринами — их привезли с собой гости.
— Ммм, это восхитительно, — пробуя плов вприкуску с соленым огурцом, оценил научный сотрудник.
Каждому туристическому месту нужна легенда
Костер всё трещал. Компания тоже не думала умолкать. Свои истории одну за другой рассказывал один из опытнейших экспертов в туризме Владимир Гуторов. Про домового, который пугал туристов в Архаринском районе, про снежного человека — в Зейском.
— Когда в начале 2010-х мы начали водить группы на Тукурингру, с директором Зейского заповедника Сергеем Игнатенко у меня вышел разговор, что нужно бы подыскать местные легенды и сказки. Потому что длинными вечерами у костра туристы очень любят слушать историю мест, байки про то, где видели, скажем, инопланетян или следы атлантов. И вот однажды Сергей Юрьевич поведал мне историю, что профессор Московского государственного университета, который всегда работает на территории заповедника, как-то карандашом сделал наброски снежного человека: лохматое существо стояло в дверях зимовья, затем перебиралось через завал, — с улыбкой, но при этом интригующе рассказывал Владимир Гуторов. — Позже лично у москвича мы узнали, что воочию снежного человека он не видел, что это было скорее какое-то видение, когда он лежал с температурой в зимовье, казалось, что кто-то наблюдает за ним, кто-то ходит вокруг.
И всё бы ничего, но однажды зоркие охотоведы, которые в заповеднике проводили учет зверей, наткнулись на огромные следы на снегу, которые вдруг не смогли идентифицировать. Это был кто-то, кто сделал внушительный шаг, похожий на человеческий. О находке сообщили профессору МГУ, работающему на дальнем кордоне, место накрыли куском толи — что нашли. Пока ученый добирался к следам, они просто растаяли. Но какая-то загадка осталась.
— Я считаю, что в каждом туристическом месте важно собирать историю, знать географию, топонимику, те же местные легенды, чтобы рассказывать туристам, — уверен Владимир Гуторов. — Так всегда интереснее, это привлекает путешественников.
«Мы удивились и обрадовались, когда получили фото малышки, укрытой флагом Норского заповедника»
 В Норском заповеднике крупнейшее в России месторождение халцедонов. Это камни, из которых делают украшения и которым посвящают стихи. Фото: Анна Шантыка
В Норском заповеднике крупнейшее в России месторождение халцедонов. Это камни, из которых делают украшения и которым посвящают стихи. Фото: Анна Шантыка
Норскому заповеднику снежный человек не нужен, решили сообща, — тут есть свои чудеса. Например, крупнейшее в стране месторождение халцедонов — более 30 россыпей длиной до 80 километров. Встретить тут можно разные халцедоны: сердолики, сардеры, карнеола, агаты.
Как написано на сайте природоохранной территории, перстни с халцедоном носили Байрон и Наполеон, а у Пушкина таких перстней̆ было целых два. Моряки верили, что халцедон поможет вернуться на сушу и брали талисман с собой в долгие плавания. Камень считали символом любви и радости.
 Наталья Баландина однажды привезла группу туристов в Норский и сама влюбилась бесповоротно. И уже два года совмещает работу в заповеднике с туризмом: говорит, развидеть и разлюбить эти места невозможно. Фото: Анна Шантыка
Наталья Баландина однажды привезла группу туристов в Норский и сама влюбилась бесповоротно. И уже два года совмещает работу в заповеднике с туризмом: говорит, развидеть и разлюбить эти места невозможно. Фото: Анна Шантыка
— В заповеднике рассказывают историю, что один из научных сотрудников, который мечтал обзавестись семьей, поверил в силу халцедонов и однажды набрал полные карманы этих камней. Через некоторое время встретил свою любовь, у него родился долгожданный сын, — рассказала специалист Норского заповедника по экологическому просвещению Наталья Баландина. — Прямой связи вроде бы нет, но совпадение интересное. Мы решили написать об этом в соцсетях. После — события стали разворачиваться самым волшебным образом.
Пост, который вышел в начале прошлого года, подхватили в СМИ, о статье узнала пара Александра и Ольги Локтионовых — амурчане мечтали стать родителями с 2017 года. Супруги уже решили делать ЭКО, процедуру назначили на 4 апреля.
— Про Норский заповедник мы не слышали до тех пор, пока моя племянница не скинула статью о халцедонах, — рассказала Ольга Локтионова. — Я предложила мужу съездить в заповедник, и он согласился. Мы просто сели и приехали из села Волково Благовещенского округа в Февральск. Сказать, что сотрудники были удивлены — не сказать вообще ничего. Они были в шоке, что мы приехали в такую даль наобум, зимой. Познакомились с директором заповедника Тимофеем Николаевичем — очень приятный человек, добродушный, веселый. Стал объяснять, что приехали мы не в тот период: в такой снег камень найти невозможно, даже если бы мы и смогли проехать в заповедник.
 Фото: Анна Шантыка
Фото: Анна Шантыка
Ольга вспоминает, в тот момент ее охватила грусть. Но директор заповедника Тимофей Мудрак решил поддержать гостей — он нашел в ящиках один-единственный камушек и подарил его семье вместе с флагом заповедника и футболкой.
— Мы вернулись домой. Это было 20 февраля. 16 марта узнали, что ждем малыша. 12 ноября 2024 года появилась на свет наша малышка Валерия. Халцедон из Норского заповедника стал нашим самым дорогим талисманом, — рассказывает Ольга Локтионова, пока одиннадцатимесячная Лера плавает в бассейне.
 Дитя Норского заповедника. Долгожданная Валерия, как рассказывают родители, родилась после первой в жизни супругов поездки в Норский заповедник, где семье подарили халцедон. Поэтому Леру сфотографировали в футболке и флаге заповедника, а рядом — тот самый магический камешек. В семье его бережно хранят. Фото из личного архива семьи Локтионовых
Дитя Норского заповедника. Долгожданная Валерия, как рассказывают родители, родилась после первой в жизни супругов поездки в Норский заповедник, где семье подарили халцедон. Поэтому Леру сфотографировали в футболке и флаге заповедника, а рядом — тот самый магический камешек. В семье его бережно хранят. Фото из личного архива семьи Локтионовых
Примерно через год семья мечтает отвезти Леру в Норский заповедник — и гостей там очень ждут. В любое время года, получается, как и в прошлый раз.
Забыть телефон, чтобы вспоминать Норский заповедник
К слову, туристический сезон в заповеднике не заканчивается. Как только на реках встанет лед, гостей будут ждать на самом северном кордоне «Меун», где как раз обитает рыбный филин. Попасть туда зимой уже мечтает представитель Агентства гостеприимства Амурской области Ксения Сук. Ей невообразимо хочется увидеть сопки, укрытые снежными шапками, деревья, покрытые инеем, лед на Норе и хотя бы следы самой большой совы планеты. Она говорит, что в октябрьскую поездку поняла по-настоящему, что такое дыхание Севера: когда в Благовещенске ходили еще без шапок, в Норском заповеднике хотелось укутаться в одеяло перед выходом на улицу. Но при этом — гулять, любоваться, дышать, слышать тишину и птиц, забыв телефон в домике.
 Сотрудник Агентства гостеприимства Ксения Сук на три дня забыла про телефон и десятки уведомлений. В Норском хочется слушать тишину природы. Фото: Анна Шантыка
Сотрудник Агентства гостеприимства Ксения Сук на три дня забыла про телефон и десятки уведомлений. В Норском хочется слушать тишину природы. Фото: Анна Шантыка
— Если где-то мы боремся за то, чтобы связь была на каждом километре, то здесь ее полное отсутствие — неоспоримый плюс. Когда жили на кордоне, телефон вообще оставляла в домике, бегала за ним, чтобы сделать фото. Отдохнула от лишнего шума, постоянных уведомлений (и ужаснулась тому, сколько пришло их в день возвращения в цивилизацию: больше 70 в разных мессенджерах — это сколько же мы вынуждены принимать информации), — поделилась старший менеджер проектов Агентства гостеприимства Ксения Сук.
 В обратный путь с кордона до села группу провожал первый снег. Фото: Анна Шантыка
В обратный путь с кордона до села группу провожал первый снег. Фото: Анна Шантыка
Невозможно не влюбиться в эти края и, почувствовав то самое единение с природой, поняв, как жили предки, впоследствии не делать всё, чтобы не перевелись на Земле прекрасные и уникальные птицы и животные, а главное — люди, способные поддерживать любовь к диким местам.