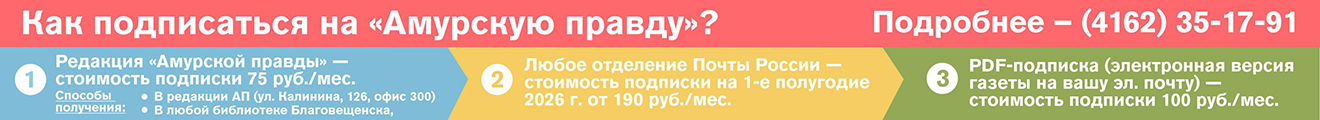Запах конфет и гул «катюш»: детские воспоминания благовещенского художника о войне на Амуре
Владислав Петрович Афанасьев — академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, — один из очевидцев тех августовских дней 1945 года, когда Благовещенск из обычного приграничного города превратился в плацдарм для решающего удара. Его воспоминания, яркие и детальные, как мазки на холсте, — это уникальный документ эпохи, увиденной глазами восьмилетнего мальчишки.


Решение матери и пустеющий город
Перед лицом неизвестной опасности каждая семья принимала свое судьбоносное решение. Для семьиАфанасьевых таким решением стала твердая воля матери, которая решила остаться и не отдавать своих детей в эвакуацию. Город замер в тревожном ожидании: кто-то эвакуировался, спешно заколачивая окна и двери. По опустевшим кварталам патрулировала милиция, следившая за порядком.
— Когда только готовились к войне, из Китая к нам стало прибивать трупы китайские по Амуру. Они все нищие такие, в рванье в каком-то. Обычно за спиной руки связаны. Перекрученные ноги соломенными веревками. Их расстреливали или топили, скидывали в Амур. Мы уже поняли, что что-то там неладно. Там свои еще разборки какие-то были в Китае. Маньчжуры воевали с хунхузами. Все боялись, как бы они сюда не пошли, китайцы, со своими разборками, — делится воспоминаниями дитя войны.
Моя мама сказала: «Не отдам я детей в эвакуацию. Если нам суждено умереть, будем умирать все вместе». С этой фразы начался для восьмилетнего Владислава Афанасьева самый страшный август его жизни — август 1945 года, когда Благовещенск готовился к решающему удару по армии Японии. Его воспоминания — это уникальный взгляд на историю глазами ребенка, видевшего и красное от залпов небо, и улыбки пленных японцев.
Зловещую тишину вскоре сменил гул моторов и строевые песни. Благовещенск стремительно наводнялся войсками: тысячами солдат, танками, артиллерией. Владислав Петрович с детским изумлением наблюдал, как город буквально на его глазах переоделся в военную форму. Особенное впечатление на мальчика произвело невероятное количество девушек-военных, которых он раньше и представить не мог в армии.
— Кровь с молоком, все ордена лежат на грудях. Смотришь — загляденье! Это потом стали ордена не лежать на грудях, а висеть. Голод настал, — вспоминает Владислав Петрович.
Дом Афанасьевых: островок мирной жизни
Их большой дом с красивым парадным входом стал магнитом для солдат, изголодавшихся по простому домашнему уюту. Военные часто приносили с собой трофейные продукты, вино, водку и японское саке. Ночные посиделки военных в городе могли заканчиваться стрельбой, родители Владислава больше боялись шальных пуль от своих же, чем вражеских налетов.
«Потом спускаюсь по лестнице, а там уже мать с ремнем. Боялась за меня. Говорит: «А если он бомбу бросит. Все прячутся в подвал, а они на крышу лезут!»
Для детей война часто представлялась захватывающим приключением. Мальчишки научились с первого взгляда определять японские самолеты по желтым кругам на боках и, вопреки всеобщей панике, вместо того чтобы прятаться в подвал, забирались на крыши, чтобы посмотреть на бой.
— Пацанам же интересно, сейчас бой будет! Потом спускаюсь по лестнице, а там уже мать с ремнем. Боялась за меня. Говорит: «А если он бомбу бросит. Все прячутся в подвал, а они на крышу лезут!» Нам же интересно посмотреть! — со смехом рассказывает художник.
Ночь, когда горело небо
Ночь наступательной маньчжурской операции стала одной из самых страшных и самых впечатляющих в его жизни. По радио передали, чтобы все бежали в укрытие. Семья хотела укрыться в бомбоубежище на станции переливания крови, но там не оказалось мест. Повезло, что у соседей был подвал, который они обустроили матрасами. Места было немного, но семью Афанасьевых туда пустили. Там они просидели до самого утра.
— Часа, наверное, четыре «катюши» били с Соколовского бугра, где сейчас ГАИ... До самого утра стреляли, небо всё красное было. Гул стоял, это жутко, понимаете. Уж они пуляли и пуляли, — говорит Владислав Афанасьев.
 Ночь наступательной маньчжурской операции Владислав Афанасьев запомнил на всю жизнь. Фото из архива «Амурской правды»
Ночь наступательной маньчжурской операции Владислав Афанасьев запомнил на всю жизнь. Фото из архива «Амурской правды»
Наутро дети побежали к пристани, где разворачивалась грандиозная картина переправы: тысячи солдат грузили на баржи танки и другую «дорогущую технику». Каждую баржу охраняли бронекатера, а сзади у каждого стояла готовая к бою «катюша».
Пленные японцы: улыбки и обмен на рис
 По словам очевидца, японские военнопленные свободно передвигались по Благовещенску. Местные жители нанимали их как рабочую силу. Фото из архива «Амурской правды»
По словам очевидца, японские военнопленные свободно передвигались по Благовещенску. Местные жители нанимали их как рабочую силу. Фото из архива «Амурской правды»
Вскоре улицы города заполнили колонны пленных японцев. Их молодость и улыбчивость поначалу вызывали у горожан недоумение. Оказалось, они были искренне рады, что остались живы. Для них разбили палаточные городки, самый большой — около сельхозинститута. Японцы, непривычные к местной природе, с удивлением и страхом смотрели на широкий Амур, называя его морем.
«Когда только готовились к войне, из Китая к нам стало прибивать трупы китайские по Амуру каждый день. Все нищие такие, в рванье в каком-то. Обычно за спиной руки связаны. Перекрученные ноги соломенными веревками. Мы уже поняли, что что-то там неладно».
Между пленными и местными жителями быстро наладился бытовой обмен. Главной валютой с японской стороны был хлеб, а с нашей — рис.
— У них пайка была, солидная пайка хлеба, но они говорили, что не понимают хлеб, это солома какая-то, им рис надо. И вот они с пайками хлеба ходили по дворам, меняли на рис. Хоть щепоточку, но риса, — объясняет амурчанин.
Голод, работа и странные обычаи
Голод был постоянным спутником тех лет. Власти нашли способ занять пленных и помочь горожанам, издав по радио необычное распоряжение: каждый мог взять себе группу японцев для работы по хозяйству — копать огород, пилить дрова, копать могилы. Платой была лишь еда.
Японских офицеров оставили при саблях, что порождало порой жуткие сцены, непривычные для советских людей. Владислав Петрович вспоминает, как офицер избивал саблей своих подчиненных, которые уронили его с носилок по дороге в туалет.
Этот случай он как-то рассказал японскому журналисту «Асахи», когда тот брал у него интервью, и заявил, что русские — варвары. Он объяснил свое мнение тем, что заметил кортеж правительства, из-за которого перекрыли все дороги. По словам журналиста, в Японии это недопустимо. Все равны и одинаково стоят в пробках. На что Владислав Петрович ему ответил: «Наши никогда своих не били вот так, никогда! Мы всё время, пацаны, вокруг них крутились. А вот японские офицеры своих колотили. Мы сами видели. Каждый день били их. Такие порядки чудовищные».
«Там тетка какая-нибудь бросит нам кусок жмыха»: детские «радости» и страхи голодного времени
 Мельница Алексеева (совр. пересечение Амурской и Первомайской), вдали р. Зея. Фото: primamedia.ru
Мельница Алексеева (совр. пересечение Амурской и Первомайской), вдали р. Зея. Фото: primamedia.ru
Детство Владислава и его друзей было наполнено не играми, а постоянным поиском еды. Их развлечения и «лакомства» были порождены суровой необходимостью. Уже в детском возрасте мальчики курили — так есть меньше хотелось.
— Мы с утра, скажем, идём понюхать, как пахнут конфеты. Где кондитерская фабрика «Зея», вот стоим там и нюхаем. Для нас это фантастическая, сладкая жизнь... На маслозавод сходим. Там тетка какая-нибудь бросит нам кусок жмыха. Ой, мы давай: «Тетенька, спасибо вам большое!» — и грызем ходим, — делится ребенок войны.
«Мы с утра, скажем, идём понюхать, как пахнут конфеты. Где кондитерская фабрика «Зея», стоим там и нюхаем. Для нас это фантастическая, сладкая жизнь... На маслозавод сходим. Там тетка какая-нибудь бросит нам кусок жмыха. Ой, мы давай: «Тетенька, спасибо вам большое!» — и грызем ходим».
Торжественного парада в честь победы над Японией в Благовещенске, по воспоминаниям Владислава Петровича, не было. Но город ликовал по-своему. По вечерам улицы наполнялись песнями — сначала наших солдат, а потом и японских пленных, которые удивительно быстро выучили русский язык и отлично пели «Катюшу».
В память врезался момент: по радио передали, чтобы все шли в госпиталь с цветами для военных.
— Сестра взяла цветы вручать там раненым, ей тогда было лет 15. Пришли в госпиталь Кулика, как раз осень, жара невыносимая, вонь стоит. Это какой-то кошмар, запах разложения. Несут на носилках там раненых. Кто без ног, кто без рук. Стоны, кричат «мама». Пацаны там совсем... Я напугался и за сестру держался. Больше я не ходил туда. Такое нехорошее на меня впечатление произвело, — делится воспоминаниями Владислав Петрович. — Я уже во взрослом возрасте долго предлагал повесить мемориальную доску, что здесь раненые были, такая священная точка.
 Война никак не повлияла на творчество Владислава Афанасьева. Фото из личного архива
Война никак не повлияла на творчество Владислава Афанасьева. Фото из личного архива
Несмотря на тяжелое детство, свои картины Владислав Петрович посвящает мирной, спокойной природе и жизни Севера. Ужасы войны остались глубоко в памяти, выкристаллизовавшись в главную мысль, которую он пронес через всю жизнь, — слова своей матери: «Готовы на сухарях сидеть, только чтобы войны не было».
Записано со слов Владислава Петровича Афанасьева