Черемуха — как бабка беззубая
«Почему вдруг руководитель промышленного предприятия поднимает проблему пчел?» — с этого вопроса мы начали разговор, пока гендиректор Октябрьского элеватора угощал нас чаем.
— Потому что пчелы поддерживают всю экосистему — от цветущих лугов до промышленных сельхозугодий. Весной всё село было белым от черемухового цвета. В прежние годы ветки гнулись — такая рясная была, и сейчас посмотрите, как мало ягод. Стоит, родимая, как бабка беззубая. Всё оттого, что деревья никто не опылил — пчел стало мало. Я — агроном, и, анализируя процессы, которые происходят, понимаю, что мы уходим не в ту сторону, — озабоченно вздохнул Виктор Доценко и предложил съездить на ближайшую пасеку, чтобы поговорить с пчеловодами.
300 гектаров экологической культуры
— Вы думаете, почему мы стали гречиху сеять? Пришлось! — рассуждал гендиректор элеватора, пока мы ехали на пасеку. — Когда‑то у нас в Приамурье этой культурой засевали до 15 тысяч, а то и до 20 тысяч гектаров — область сама себя обеспечивала гречневой крупой. Региональный минсельхоз подчеркивает важность севооборота. Еще признанный во всем мире российский ученый-ботаник, генетик и селекционер академик Николай Вавилов рекомендовал: в севообороте должно быть не менее 15 процентов гречихи. Чем больше — тем лучше. Она имеет для оздоровления почвы большое значение, так как является полупаром и очень хорошим предшественником для других культур. Казалось бы, после сои гречиху досевай, но аграрии говорят: малоурожайная. Мы в прошлом году взяли 15 центнеров с гектара, а у кого‑то и десяти не выходит. Потому что пчел нет.
«Когда я начинал работать в 1979 году, в трех колхозах нашего района («Маяк», «Восход», «Новый труд») и большинстве совхозов были в штате пчеловоды. Пасеки работали на опылении полей культурных медоносов и садов-огородов ближайших сел», — вспоминает Виктор Доценко.
Гречиха — культура только опыляемая. В принципе, ее можно и вручную опылять: как раньше, бывало, по полю веревку таскали. А по идее на гектар должно быть по норме три улья пчелиных — тогда хороший урожай будет. Доценко всегда спрашивает предпринимателей, которые приезжают из других регионов на Октябрьский элеватор за семенами гречихи: «А пчелы у вас рядом есть? Если нет, надо оповестить и пригласить пчеловодов, иначе хорошего урожая не будет».
— А еще, прежде чем принять гречиху на элеватор, я интересуюсь у аграриев: проводили ли они десикацию? Это процесс обработки специальными препаратами, направленный на подсушивание растений. Всем говорю: если будете перед уборкой десикацию гречихи проводить, я даже ее не буду у вас покупать. Потому что хоть что‑то должно быть экологически чистое! Мы же крупу поставляем в детские садики и школы. У меня самого есть внуки. Как детям варить кашу, если крупа с «химией»? Наша гречка экологически чистая. И технологию обработки зерна мы сохраняем еще советскую, ГОСТовскую — не жарим, а обрабатываем паром. Это позволяет сохранить больше полезных веществ.
Японская гречиха пчелам не понравилась
Два года назад в Приамурье завезли семена гречихи из Японии. Виктор Доценко раздал их в некоторые хозяйства Завитинского, Ромненского и Благовещенского округов, чтобы посадили ради эксперимента.
«Гречиха вымахала больше человеческого роста, хотя никакие удобрения никто из фермеров не применял, — рассказал Виктор Степанович. — И вот что еще нас удивило: по словам пчеловодов, на амурскую культуру опылители летят охотно, а на японскую садятся и тут же улетают — прыгают, как блошки, с одного цветка на другой. Словом, нашим пчелам японская гречиха не понравилась. Поэтому мы аккуратно от нее отказались».
В Приамурье стало меньше растений-медоносов
 Фото: Василий Артемчук
Фото: Василий Артемчук
Пчеловодством в области занимаются практически во всех округах и районах, только условия разные. В Архаринском пчеловодам проще — там большие лесные массивы, в тайге разнотравье, а на территориях, расположенных южнее, медоносов осталось мало. Это еще одна проблема, которая волнует пчеловодов и ученых: сокращается количество медоносных растений.
— В нашем Октябрьском районе ферм практически не осталось. Раньше, когда животноводство развивалось, было много пастбищ, на которых произрастал тот же клевер. Весной на клевере пчелы набирали силу, потом ульи кочевали на сенокосы, гречишные поля. Раньше больше полей засевали рапсом, гречихой и другими культурными медоносами. Сейчас вокруг одна соя. Эта культура у нас в приоритете. Низкий севооборот, аграрии не хотят выращивать медоносные травы — им это не выгодно. Все заточены на прибыли. Пчеловоды ограничены в получении хорошей продукции, потому что цепочка, которая раньше существовала, нарушена, — отмечает Виктор Доценко.
«Не знаю, куда сбывать мед»
 Фото: Василий Артемчук
Фото: Василий Артемчук
Найти кочевую пасеку Сергея Рекеды, притаившуюся в лесу в нескольких километрах от Екатеринославки, не составило труда. Пчеловод встретил нас радушно. Он раскрыл один из ульев и достал потемневшую восковую рамку.
 Фото: Василий Артемчук
Фото: Василий Артемчук
— Это мед запечатанный, качественный, а это вот — расплод свежий, — под жужжание пчел рассказал 69‑летний пенсионер. — Надо выждать время и качать вовремя, а не так, как делают некоторые: только появился первый мед, его выдувают весь, лишь бы продать подороже. Он водянистый, закисает — и всё!
Сергей Алексеевич занимается пчеловодством уже больше 30 лет. Сейчас у него дома хранится около двух тонн меда, который он не смог реализовать, — за два года скопилось. Закристаллизованный хороший мед, с которым хозяин не знает, что делать.
 Фото: Василий Артемчук
Фото: Василий Артемчук
— Раньше были заготконторы: пошел да сдал. Сегодня на территориях районов приемщиков меда нет. Тому банку продал, другому банку, а остальное куда? Вроде бы справки все есть, подтверждающие качество, — развел руками Сергей Алексеевич.
Сбыт готовой продукции для многих пчеловодов, возраст которых 65+, это большая проблема. И не единственная.
«Ветконтроль постоянно меняет правила»
 Фото из личного архива
Фото из личного архива
Педагог Романовской школы Геннадий Витько — не просто пчеловод-любитель. В свое время он окончил благовещенское СПТУ № 9, где в 1970‑е годы готовили пчеловодов.
— У нас группа была из 30 человек, в том числе восемь девушек. Потом мы проходили практику и распределялись по пасекам и пчелосовхозам, которых в те годы в Приамурье было 15. Их объединяла центральная контора, которая руководила всем пчеловодным производством в регионе. Поэтому такой проблемы, как сбыт продукции, у частного сектора раньше не существовало. И цена меда была приличная по тем временам: килограмм сахара стоил рубль, а меда — 4 рубля, — вспоминает Геннадий Владимирович.
«Молодежь не видит перспективы в пчеловодстве. Еще лет десять пройдет, и просто некому будет этим делом заниматься».
Работая учителем, имея подсобное хозяйство, за сезон он качал по 20 бидонов меда. Стоимость каждого была 200 рублей — как зарплата инженера. Пчеловодством выгодно было заниматься. Сейчас весной выставили улики, говорят пасечники, и начинаются проблемы. Первая — надо сдать анализы на болезни. Без этого пчеловод не может работать и впоследствии сдать мед, потому что не получит ветеринарное свидетельство с подтверждением, что его пасека безопасна.
— Дело в том, что ветконтроль постоянно меняет правила. Три года назад надо было из каждой пчелосемьи вырезать расплод, то есть испортить немного рамку, чтобы сдать анализы, — привел пример Геннадий Витько. — В прошлом году они потребовали везти им живых пчел на исследование. И всё это надо делать срочно, чтобы пчелы не погибли. И вот везем сначала в районную ветлечебницу, потом оттуда их каким‑то образом должны доставить в Тамбовку — всё очень проблематично. Затем такая же морока начинается с готовой продукцией.
Раньше лаборатории, куда мед сдавали на анализ, располагались в районах. Сейчас пчеловодам нужно ехать в Благовещенск, на улицу Нагорную, чтобы получить справку, позволяющую реализовывать продукцию.
— Такая канитель! Неудивительно, что часть пчеловодов этого попросту не делают. Я общаюсь со многими. И все жалуются, что приходится преодолеть очень много препятствий, чтобы уложиться в нормативы. Например, что касается анализа на мед: бывает, в сезон они берут мед с различных территорий — с каждой надо взять образец и отвезти на анализы, чтобы потом продукцию свою реализовать. Это очень проблемно. Снижаются рентабельность пчеловодства и число предпринимателей, готовых им заниматься. Возраст многих пасечников в основном 65+. Молодежь не видит перспективы в пчеловодстве. Еще лет десять пройдет, и просто некому будет этим делом заниматься, — озабочен Виктор Доценко.
Эльвира Тимошенко: «Труженицы-опылители страдают невинно»
 «Популяция пчел уменьшается. И это мировая проблема», — озабочена кандидат сельскохозяйственных наук Эльвира Тимошенко. Фото: ДальГАУ
«Популяция пчел уменьшается. И это мировая проблема», — озабочена кандидат сельскохозяйственных наук Эльвира Тимошенко. Фото: ДальГАУ
— Я занимаюсь гречихой с 2014 года. Десять лет — не такой уж большой промежуток времени, но даже я заметила: пчел становится гораздо меньше. Первые годы, когда гречиха цвела, мы боялись даже на пять метров близко к полю подойти — такое жужжание стояло! Хотя рабочая пчела не кусает, она другим делом занята, всё равно где‑то по неосторожности могла и зацепить — мы опасались пчелиных укусов, — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой общего земледелия, растениеводства и селекции Дальневосточного государственного аграрного университета Эльвира Тимошенко. — Сейчас на наших опытных полях, в частности в селе Грибском Благовещенского округа, мы со студентами спокойно ходим по дорожкам между делянок. Популяция пчел уменьшается. И это проблема не только для нашей Амурской области — эта мировая проблема.
По мнению ученого, это связано в том числе и с огромным количеством применения инсектицидов. Эти препараты применяют против насекомых-вредителей. Рабочие пчелы обычно летают на расстоянии трех километров от ульев, но могут пролететь в поисках медоносов и более 15 километров, то есть спокойно перелетают соевое поле. Соя — самоопыляемая культура. Ей не нужны никакие насекомые — в закрытом цветке всё опылится. Но у нее есть вредители, против которых ведут борьбу фермеры и крупные хозяйства.
— У нас в регионе 1,2 миллиона гектаров посевных площадей, из них практически 800−900 га занято соей, а этой стратегической культуре угрожает соевая плодожорка. Когда сельхозтоваропроизводители начинают повсеместно вносить инсектицид, борясь с вредителем, то препарат не выбирает: соевую плодожорку ему убить или пчелу, — назвала Эльвира Васильевна первую причина гибели опылителей. — Пролетая мимо, пчелы страдают невинно.
Пчелы стали более агрессивными
 Фото: Василий Артемчук
Фото: Василий Артемчук
Все пчеловоды жалуются: «Пчелы в последние годы стали очень злые — на пасеке невозможно работать». Геннадий Витько вспоминает, что раньше голыми руками ульи открывал, а сейчас без перчаток и специализированного костюма на пасеку не зайти. «Мы считаем это результатом нарушения экологической обстановки. Сказывается химическая обработка соевых полей»
Возрастная категория материалов: 18+
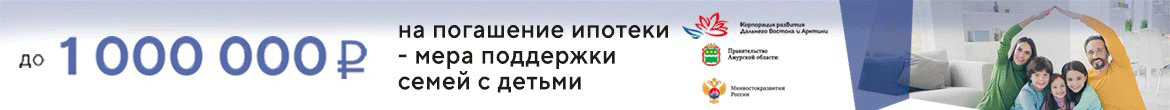






















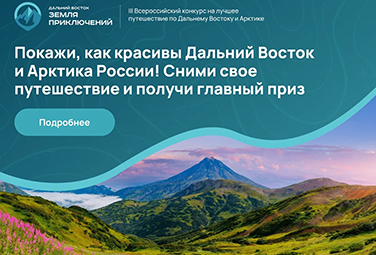
 Победители хакатона «Амурская ItТепель – 2025» создали разработку для банка
Победители хакатона «Амурская ItТепель – 2025» создали разработку для банка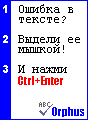
Добавить комментарий
Комментарии