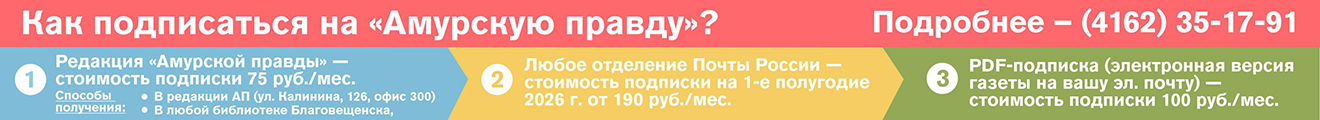Как говорил русский Харбин: ученые АмГУ восстановили язык советской эмиграции в Китае
Если пройтись по улицам Харбина 1920-х годов, можно было услышать удивительную речь. Русские горожане могли запросто попросить у лавочника-китайца «фентёузу» к ужину, купить детям «танхулу» на палочке и даже пропустить стопочку-другую «Аннушки». Это не тарабарщина, а живой язык уникального русского города, выросшего в сердце Китая. Увлекательное путешествие в прошлое совершили ученые Амурского государственного университета Ольга Цмыкал, Андрей и Анна Забияко, изучившие, как русский Харбин заговорил на китайский лад.

От первого рельса – к первому дому
История этого лингвистического феномена началась не с революции, а почти на два десятилетия раньше. В 1896 году Россия и Китай подписали соглашение о строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая должна была стать кратчайшим путем к тихоокеанским портам. Уже в 1898 году на берегах Сунгари начал расти город-мечта, опорный пункт строительства КВЖД. Сюда потянулись первые переселенцы из России: инженеры, путейцы, военные, купцы — те, кто создавал инфраструктуру и налаживал жизнь нового города.
Однако именно трагические события 1917 года в России превратили Харбин в крупнейший центр русской эмиграции. Тысячи людей, спасаясь от гражданской войны, хлынули в Маньчжурию по знакомой железной дороге. Волна беженцев была невероятной: если до революции русское население города исчислялось десятками тысяч, то к 1920 году, по данным историков, в Харбине проживало уже около 200 тысяч русских и русскоязычных жителей.
Русской бури путь зловещ и долог,
Но меня, как тысячи других,
Ты, Харбин, родной земли осколок,
Защитил, укрыл от вихрей злых.
И теперь ни от кого не скрою,
Милым городом покорена,
Что мне стала родиной второю
Приютившая меня страна.
Елена Даль, поэтесса.
Социальный состав был пёстрым: бывшие военные и чиновники, врачи и учителя, художники и музыканты, инженеры и ученые, казаки и крестьяне – все они нашли пристанище в этом гостеприимном китайском городе.
Среди них были и известные личности: политический деятель Николай Устрялов, поэтесса и танцовщица Лариса Андерсен, инженеры Алексей Щелков и Василий Мелихов, ученый и член-корреспондент РАН Владимир Иванов, поэт Арсений Несмелов и другие талантливые люди.
Город-мост
 Фото сгенерировано нейросетью shedevrum.ai
Фото сгенерировано нейросетью shedevrum.ai
Но Харбин не был просто русским анклавом. Это был город-мост, где с самого начала русские и китайцы жили бок о бок, в атмосфере добрососедства. Строили вместе, вместе молились (в городе возводились и православные храмы, и буддийские кумирни), вместе ходили в театры и издавали газеты.
С 1908 по 1922 год русские эмигранты построили в Харбине более 2300 зданий. Харбинская епархия Русской православной церкви имела 60 храмов, а в самом Харбине был построен 21 храм.
— Разговорным языком был русский. Харбинцы благодаря своей приспособляемости и предпринимательскому духу очень быстро выучили русский язык на разговорном и письменном уровне. Многие китайские дети учились в русских школах. При таких тесных межэтнических контактах русские не испытывали особой потребности в изучении китайского языка. Отчасти это было связано со сложностью «китайской грамотности» и отсутствием развитой системы преподавания китайского языка, — пишут исследователи из АмГУ.
Русские эмигранты почти не владели китайским, но всё равно старались влиться в новую культуру. Окруженные новой реальностью, начали вплетать в свою речь яркие и удобные китайские слова, особенно те, что были связаны с бытом и едой. «Несмотря на то что россияне были консервативны в гастрономических предпочтениях, бедность способствовала росту интереса к простой и доступной китайской еде, которую можно было попробовать прямо на улице», — отмечается в исследовании.
Так в обиход вошли «кулинаризмы»:
- «Чифан» (吃饭 — chīfàn) — просто «еда на улице или в закусочных», «прием пищи».
- «Фентёуза» (粉条丝 — fěntiáosī) — соевая или рисовая лапша.
- «Бай-цай» (白菜 — báicài) — знакомая теперь всем китайская капуста.
- «Мантоу» (馒头 — mántou) — паровые булочки.
- «Тапинза» (大饼子 — dàbǐngzi) — кукурузная лепёшка.
- «Танхула» (糖葫芦 — tánghúlu) — ягоды или фрукты в карамели на палочке, любимое детское лакомство.
- «Юэбин» (月饼 — yuèbǐng) — лунные пряники, которые и сегодня русские харбинцы вспоминают как невероятно вкусные.
А крепкую китайскую водку «хан цзю» русские ласково окрестили «Аннушкой». Ее грели в специальном сосуде — «тахушке» (大壶 — dà hú).
«Ёрги», «ходя» и «хунхузы»
 Фото сгенерировано нейросетью shedevrum.ai
Фото сгенерировано нейросетью shedevrum.ai
Язык впитывал не только гастрономические изыски. Он отражал всю социальную палитру города. Общим словом для китайских торговцев и низкооплачиваемых рабочих стало «ходя», или «ходька». Китайцы, в свою очередь, называли русских «лаомаоцзы» (老毛子) — «волосатые».
В речи появились и слова с трагическим оттенком. «Ёрги» (游丐 — yóugài) — так называли китайских нищих, ютившихся у стен церквей и просивших милостыню.
— Голодных, голых и босых ёрги, зачастую морфиновых наркоманов, японцы подбирали и увозили в неизвестном направлении якобы для лечения. Позже, когда наступило освобождение от рабства, выяснилось, что за городом в обстановке строжайшей секретности на живых людях проводились эксперименты с бактериологическим оружием с применением жестоких методов. Были разные случаи: то японский офицер саблей отрубил руку русскому извозчику, который подвозил его и осмелился попросить денег за свою работу, то средь бела дня на пирсе японские солдаты забили до смерти «ёрги», который пытался просить милостыню, — пишут исследователи со ссылкой на работу Лалетиной Н. Н.
А слово «хунхуз» (红胡子 — hónghúzi) — «краснобородый» — наводило ужас на всех жителей Северо-Востока. Так называли местных разбойников, которые носили красную маску, закрывавшую половину лица.
По одной из версий, сохранившейся в рассказах старожилов, название пошло от красных тряпиц на пробках, которыми разбойники затыкали ружья.
— Потому что раньше был пистолет. Да? Стреляй. Была пробка. Они закрыли ее пробкой, чтобы пуля не выпала. Чтобы не потерять пробку, они привязывали к ней красную тряпку. А он, то есть тот, кто стрелял, клал пробку в рот. Так и получилось hunhuzi — «рыжая борода», — рассказал исследователям Николай Заика, родившийся в Харбине в 1939 году.
Испытание войной и память сердца
 Фото сгенерировано нейросетью shedevrum.ai
Фото сгенерировано нейросетью shedevrum.ai
Особенно крепкой дружба между простыми русскими и китайцами стала в годы японской оккупации. Как вспоминают старожилы, предприимчивые китайцы спасали русских соседей от голода, пронося им под полой горсти риса. А русские прятали китайцев от преследований, рискуя собственной жизнью, и оказывали медицинскую помощь раненым.
Другие слова, которые вошли в речь русских харбинцев:
Та-туза — большой живот (так называли полных богатых купцов).
Кули — чернорабочий, без конкретной работы, но готовый взяться за любую.
Тапинцза — кукурузная лепёшка; блин, лепёшка из кукурузной муки, или шумиза.
Гаолян — зерновая культура, ранее служившая пищей для бедных; сырье для производства лечебной водки.
После выхода русской эмиграции из Харбина ее потомки разъехались по всему миру: в Австралию, США, Латвию, Россию. Но и сегодня на встречах «лосян» (老乡 — lǎoxiāng — «земляков») они готовят блюда китайской кухни по памяти, а их речь до сих пор наполнена яркими харбинскими «синизмами».
Это ли не лучшее доказательство того, что настоящая дружба и взаимное уважение живут не в официальных договорах, а в простых вещах: в миске простой лапши, поданной голодному соседу, в общем слове, рожденном на перекрестке двух великих культур, и в памяти, которая хранит эти истории теплее самых дорогих реликвий.
Материал подготовлен на основе исследования ученых Амурского государственного университета,
проведенного при поддержке Российского научного фонда.
Справка «Амурской правды»
Авторы научного труда – известные амурские ученые, специалисты по истории, культуре и языку русской эмиграции на Дальнем Востоке:
 Забияко Андрей Павлович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения и истории АмГУ, один из ведущих экспертов по русско-китайским этнокультурным контактам.
Забияко Андрей Павлович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения и истории АмГУ, один из ведущих экспертов по русско-китайским этнокультурным контактам.
 Забияко Анна Анатольевна — доктор филологических наук, профессор, специалист в области литературы и культуры русского Харбина, исследователь «харбинского текста».
Забияко Анна Анатольевна — доктор филологических наук, профессор, специалист в области литературы и культуры русского Харбина, исследователь «харбинского текста».
 Цмыкал Ольга Эдуардовна — кандидат философских наук, доцент, религиовед, изучающая поэтическую этнографию и духовные аспекты жизни дальневосточной эмиграции.
Цмыкал Ольга Эдуардовна — кандидат философских наук, доцент, религиовед, изучающая поэтическую этнографию и духовные аспекты жизни дальневосточной эмиграции.
Их работа основана на уникальных полевых материалах, собранных в ходе интервью с бывшими жителями Харбина и их потомками по всему миру. Прочитать полный текст исследования можно в открытом доступе по ссылке sciepublish.com.